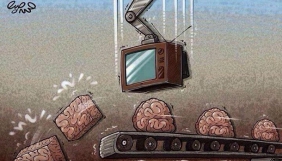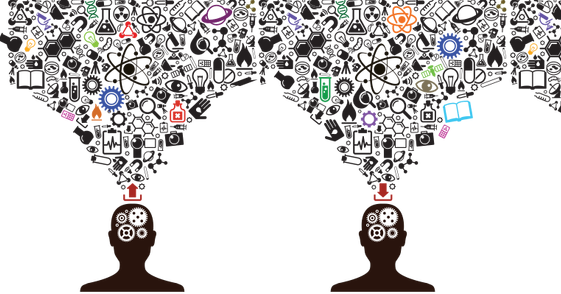
Прошлое, настоящее, будущее в физическом, информационном и виртуальном пространствах
Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter —
ми виправимo
Прошлое, настоящее, будущее в физическом, информационном и виртуальном пространствах

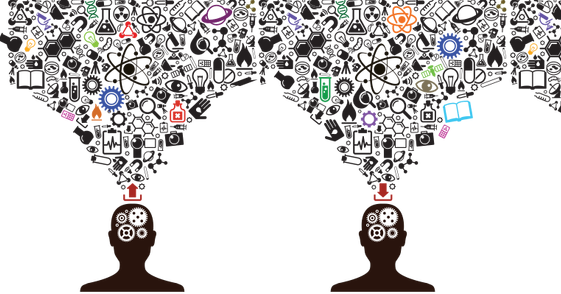
Мы все время расширяем прошлое и настоящее, а будущее по определению не может быть широким, поскольку оно еще не настало. В прошлом мы ищем доказательство правильности настоящего. А будущее уже само вытекает из того, что настоящее всегда правильно. Прошлое у нас чаще бывает неправильным, чем настоящее, поскольку власть в настоящем всегда права. Но стоит ей уйти, как ее настоящее, став прошлым, сразу оказывается неправильным. Практически каждый украинский президент, например, вытирал ноги о правление предыдущего.
Когда государство не может захватить своего гражданина материально, оно пытается захватить его душу. Советский Союз в условиях материального отставания, например, создал свою собственную религию в виде идеологии марксизма-ленинизма, которой следовало поклоняться столь же тщательно, как и настоящей религии.
Провал в настоящем заставлял его строить воздушные замки в прошлом и будущем. В начале была Революция, в будущем — Коммунизм. И то, и другое были чисто умозрительными конструктами. Но они были столь качественно построены, что даже многие западные левые, особенно в довоенное время, были покорены этими образами.
Рубцов пишет о революции 1917 года в советское время и сегодня: «Трудно переоценить значение образа Революции в идеологии и культуре СССР. Это было главное Слово — пароль времени и общества. В сознании советского человека страна отождествлялась с эпохой в качестве ее авангарда, при этом сама эпоха была авангардом всей мировой истории — и это была “эпоха революций”. Советские люди жили в величайшее время, и лицом этого времени было их великое государство, созданное величайшей в истории человечества революцией. Архетип никуда не делся — пусть даже в снятом виде. Шрам величия достался и постсоветскому сознанию — как наследие СССР. Революционная романтика была именно архетипической и не всегда сводилась к идейной индоктринации. Советская история уже не была для нас иконой, но это не мешало юным диссидентам вешать портрет Че Гевары чуть ли не в красном углу».
Каждый политический режим охраняет ценности, которые он считает сакральными, от вмешательства изнутри и извне. И горе тому, кто посмеет подвергнуть их сомнению. Это те же «скрепы» в прошлом и будущем, которые не позволяют развалиться на части зданию настоящего.
Это можно представить себе как сильные информационные и виртуальные островки в прошлом и будущем при не столь сильном физическом островке настоящего. И это возможно, поскольку физически нет будущего, но реально нет и прошлого, только какие-то его частицы всплывают в настоящем. Их можно усилить, как делал, например, режиссер Любимов, когда при входе в театр на соответствующий спектакль стояли матросы из 1917 года, проверяющие билеты. Часто это делалось на советских демонстрациях и парадах, превращавшихся в этом плане в костюмированные балы. Но там также это было не настоящим прошлым, а символическим.
Тот, кто не верит или сомневается в сакральном наборе данного государства, того можно обвинять, клевать, оскорблять, поскольку сакральное как святое не терпит вопросительности. Если в нем будут сомневаться, то и сакрального не останется.
Конечно, мы живем в физическом мире, но еще больше в мире информационном, который заменяет нам необходимость присутствия в любой точке физического мира, что невозможно. Но мы заменяем это физическое информационным. Нас там не было, но нам рассказали, что там было.
Фалин замечает по поводу роли информационного инструментария: «Именно информация превращает должность во власть. В Советской России раньше других усвоил это Сталин. Он окружил Ленина густой сетью осведомителей. Сталину доносили, что писал, диктовал, говорил Ленин, какие и кому давал поручения. Сталин провел решение, которое возлагало на него поддержание контактов с Лениным, заточенным после инсульта в Горках, и запрещало всем остальным членам Политбюро, а также правительству “волновать” больного. Будущий диктатор просеивал “продукты нездорового мозга”, под которыми понималось критическое и самокритическое сопоставление Лениным благих утопий и правды жизни» (Фалин В. М. Конфликты в Кремле. Сумерки богов по-русски. — М., 1999).
Мы всегда движемся в неоднородном пространстве. Оно состоит из физической, информационной и виртуальной составляющей. Когда движение в физическом пространстве вызывает затруднения, используется движение в информационном или виртуальном. Патриотизм как инструментарий виртуального пространства наиболее нужен солдату, поскольку его продвижение в физическом пространстве наиболее затруднено. Целина или БАМ в советский истории также потребовали огромной пропагандистской работы, поскольку это было трудно сделать физически, и тогда мощный виртуальный инструментарий транслировался с помощью не меньшего информационного инструментария.
Россия, двигаясь в Крым, сначала активизировала виртуальное движение в виде «русского мира», потом задействовала информационный инструментарий, рассказывая, как плохо живется в Украине и как хорошо в России, и лишь потом вошла «зелеными человечками», которые также были скрыты отсутствием знаков различия, чтобы не увеличивать сопротивления. То есть сопротивление в физическом пространстве может преодолеваться с помощью информационного или виртуального инструментария.
Пропаганда — это сочетание информационного и виртуального, которое подводится под существующее физическое. Пропаганда называет это физическое нужным ей виртуальным и информационным, которое может не соответствовать действительности. Россия назвала «фашистами — неонацистами — карателями» тех, кто ей не нравился в Украине. Тем самым она обеспечивала себе возможность применения силы.
Пропаганда пытается закрыть реальность символами. С символами невозможно спорить, а в реальности всегда можно разглядеть изъяны. В этом плане пропаганда сильнее реальности, поскольку она носит более идеальный характер, а в реальности возможны всякого рода отклонения.
Гудков говорит о пропаганде: «Это иллюзия, что отдельный человек в состоянии сформировать собственные представления о различных сторонах общественной жизни. Массовое сознание складывается из деятельности институтов, пропаганды, образования, политических выступлений, неформальных отношений. Поэтому коллективные представления всегда стереотипны, банальны, устойчивы и аффективны, поскольку обусловлены групповыми ценностями и соответствующими интересами. То, что называется «общественным мнением», оказывается довольно сложной структурой, потому что она опирается на целую систему распределения авторитетов, вроде политиков или неформальных лидеров в ближайшем кругу. Меняются не сами массовые стереотипы, а их композиция. Любая общественно значимаяинформация проходит через ряд социальных фильтров, меняющих ее смысл и значение. Нет чистого мнения».
Он также подчеркивает, что и Путин создан не реальной политической борьбой, а пропагандой: «Сам по себе Путин не народный трибун, самостоятельно завоевавший власть, победив оппонентов в острой политической конкуренции. Он поставлен на должность своим предшественником. Но пропаганда создала ему ореол харизматика, нарисовала в массовом сознании образ опытного, волевого политика. Сначала было не ясно, куда двигаться — в сторону Запада или нет. Но постепенно интересы удержания и сохранения власти инициировали процессы централизации, а значит — обусловили авторитарный разворот, который перерос в реставрацию тоталитарных институтов».
Государство создает пропагандистский портрет и себя, и своего лидера. В это закладываются и большие усилия и немалые средства. Но это искривленное зеркало, которое может помогать управлению, а может и мешать.
Сильная пропаганда требует сильного информационного и виртуального инструментария. Памятники и переименования улиц и площадей — это попытка сделать пропагандой физическое пространство, которое пытается этому сопротивляться.
Ярослав Грицак говорит по этому поводу: «У історії перші масові перейменування міст, вулиць, навіть календаря сталися під час Великої французької революції. Кожен новий режим, який прийшов до влади, хоче позбутися старого режиму. І це такий спосіб, такий символ. І я розумію, що це ціна революції. Я тільки дуже боюся, коли ця декомунізація стає димом, за яким ми не бачимо відсутність реформ. Чим менше реформ, тим більше перейменувань. Коли ти перейменовуєш, ти маєш справу не з реальними речами, а з символами. Я не кажу, що символи не є важливими. Але коли ти комунальні платиш — ти маєш справу з речами, які реально можеш відчути. У мене є підозри, що чим менше реформ, тим більше буде перейменувань. Створюється враження, що декомунізацією, перейменуванням вулиць ми позбуваємося комуністичного минулого. Але це дуже поверхневе враження. Комуністичне минуле — це не є тільки символи, це ще й корупція, яка в радянські часи процвітала, це закритість політичного життя, яка завжди була. Є речі набагато глибші, ніж питання перейменування. У нас купа старої радянської системи, яка просто перейменовується, але за фактом не змінюється. Звичайно, багато старого скасовано, але ми не йдемо глибше. Підсумовуючи, можна так сказати: з декомунізацією у нас більш-менш у порядку, а з реформами — сумніваюсь».
Получается, что это чем-то похоже на советскую модель, когда клали камень, на котором было написано, что здесь будет построен город-сад, и потом вся пропаганда описывала проспекты этого города-сада, которого на самом деле не было, а поэты писали стихи, посвященные этим садам. И все находились в праздничной эйфории, хотя в физическом пространстве пока ничего не было.
Богомолов, отвечая на вопрос, что тоньше, сопоставляет современную пропаганду с советской: «Опять же не могу сказать, что тоньше. Она была достаточно грубой. Та пропаганда. Но было все понятно. И всем всё понятно. Сейчас произошло, тогда мозги компостировали идеологией, штампы, связанные с коммунистическими идеалами и так далее. А теперь мозги компостируют исключительно тем, что мы живем в окружении врагов. Все только и делают, что жаждут этого закабаления российского народа».
Мы критикуем массовое сознание, но одновременно следует помнить, что это не совсем честно. Оно говорит теми смыслами, которые поступают к нему из телевизора. Массовое сознание не может и не должно самостоятельно мыслить, в противном случае оно перестанет быть массовым. Отдельные индивиды могут себе это позволить, но это практически не влияет на массовое мышление и поведение.
Почему гибридная война оказалась такой сложной для восприятия? Это так, поскольку в физическом пространстве она минимизирована, зато максимально представлена в информационном и виртуальном пространствах. Не может все население опираться на боевой опыт, которого у него нет.
Одновременно гибридная война невозможна без гибридного воина, оружием которого является информация. И это не журналист, которого напрасно пытаются сделать таким. Да, в войну 1941–45 годов журналист был пропагандистом, но он в результате породил такое множество мифов, из которых сегодня пытаются сшить национальную историю и Россия, и Украина. Когда война даже не называется войной, как у нас, то и журналистская ситуация будет другой.
Кстати, постоянно ищется замена слову пропаганда как привязанного к тоталитарному прошлому и книге Оруэлла. Среди таких замен звучит: политическая война, стратегическое влияние. Еще есть стратегические коммуникации и информационная война. Анализ российского понимания информационной войны демонстрирует и свой собственный подход, включающий элементы активных действий времен КГБ советского времени (Giles K. Handbook of Russian information warfare. — Rome, 2016). Поэтому и сегодня среди натовских требований стоит потребность по выработке единой терминологии.
Все это восходит к идеологической войне времен холодной войны. Поскольку войны теперь стали долгими, то для их обоснования тоже потребовалась идеология. Идеологическое разделение присутствует сегодня даже в видеоиграх (Schulzke M. Military videogames and the future of ideological warfare // The British Journal of Politics and International Relations. — 2017. — Vol. 19. — N 3). DARPA как военное научное агентство задает научную тему по распространению информации в онлайне, которая могла бы достигать от тысяч потребителей до десятков миллионов.
С приходом социальных медиа физические миллионы людей получили каждый свое информационное пространство. С одной стороны, порождаемые ими информационные потоки привели к постправде, фейкам и доминированию социальных ботов. С другой — возникла возможность индивидуального, а не массового обращения к каждому. Физическое, информационное и виртуальное пространства как бы слились воедино.